Борьба с кризисами, автоматизация аналитики, ребрендинг и выход на новый уровень с привлечением институциональных инвесторов — в формате интервью.
- Знакомство с Кириллом Валерьевичем
- История основания компании и развитие идеи
- Распределение ролей в команде
- Основные трудности на старте
- Поиск первого инвестора
- Первая команда и принципы её формирования
- Появление первых конкурентов
- Переход от «Содружества» к «Кономике»
- Кризисы и трудности на пути развития
- Совет себе в начале пути
- Самый сложный кейс и его решение
- Главное достижение
- Текущие вызовы и стратегические цели компании
Светлана, расскажите, как вы познакомились с Кириллом Валерьевичем?
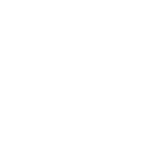
Но под конец всё свелось к тому, что мне приносили одинаковые пачки договоров, и моя задача была — их визировать. Это было ужасно. Я не могла себя заставить их читать, потому что они были совершенно одинаковые. Я понимала, что, если кто-то захочет что-то туда вписать — он это сделает, потому что я просто не в состоянии была это заметить.
Тогда я поняла: нужно срочно уходить. Мне была необходима работа «на мозг», а такую рутинную работу я делать не могла. Я начала искать новое место, и этот процесс занял у меня достаточно много времени — около двух месяцев.
Помню, когда я шла устраиваться в компанию, где работал Панов, я опоздала, была злая, потому что мне нужно было ехать на дачу с родителями. Были какие-то обстоятельства, настроение — не очень. К тому моменту я уже прошла через множество собеседований, и мои розовые очки окончательно спали.
Я думала, что вот выйду после института — и меня, такую прекрасную, просто с руками и ногами куда-нибудь возьмут. Но всё оказалось совсем не так.
Когда я пришла в ту компанию, у меня было собеседование. Из кабинета вышла девушка, которая тогда руководила юридическим отделом. Мы с ней очень мило пообщались, и буквально то ли в тот же день, то ли на следующий, мне сказали: «Выходи на работу прям завтра».
Я немного офигела от такой скорости, но всё-таки вышла.
Вот там мы с Пановым и познакомились. Он был одним из трёх учредителей фирмы. Там работали трое парней, и Кирилл был самый младший из них. Я практически сразу начала обращаться к нему на «ты».
Вот там мы с Пановым и познакомились. Он был одним из трёх учредителей фирмы. Там работали трое парней, и Кирилл был самый младший из них. Я практически сразу начала обращаться к нему на «ты».
Кирилл руководил проектами, и мы с ним тесно взаимодействовали. С остальными коллегами — гораздо меньше. Где-то через полгода я сама стала начальником юр. отдела, потому что все мои предшественники к тому моменту уже уволились.
Вообще, у нас в компании был очень маленький «срок жизни» сотрудника — в среднем около года. А если кто-то задерживался на два — это уже считалось почти ветераном. Команда была молодая, весёлая, классная.
Мы там работали вместе таким составом до 2008 года. Сначала у нас был этап, когда мы занимались "ленивыми поглощениями". Это был период 2002–2003 годов и часть 2004-го. Потом, в 2004 году, мы переключились на защиту от рейдерских захватов — и занимались этим вплоть до 2008 года. Делали это, в принципе, достаточно успешно. Наша компания была довольно известна на рынке.
В 2006 году у меня родилась старшая дочка. Я на полгода ушла в декрет. И вот, когда я была на даче, ко мне приехали мои акционеры — Панов и ещё двое. Наш главный начал уговаривать меня вернуться, выйти из декрета и возглавить компанию.
То есть на тот момент мне нужно было принять решение: стать первым лицом компании, а они оставались бы акционерами. Подо мной должна была быть команда, и всё должно было работать как холдинг. У нас уже была управляющая компания — она называлась ФАИНИКС, и я должна была стать её президентом.
Под ней находились:
- агентство антикризисных технологий инвестиций (сокращённо — АНТИ), которое занималось защитными проектами;
- Центр развития современного управления — управлял недвижимостью;
- компания сервисной системы, которая занималась водителями, МЭХО и всей сопутствующей инфраструктурой для бизнеса.
Главный тогда сказал мне: «Кто, если не ты?» — и я подумала: «Действительно, кто, если не я?» Это было в конце 2006 года.
В 2007–2008 годах мы работали в этой структуре, но в 2008 году случился серьёзный кризис. На заработанные ранее деньги мы купили объекты недвижимости, частично — на банковские средства. В какой-то момент мы не смогли вовремя погасить один из кредитов и попросили банк сделать реструктуризацию, продлить срок ещё на год.
Банк нам отказал и начал забирать недвижимость. Один из объектов был оформлен в лизинг и принадлежал банковской лизинговой компании. Мы, как лизингополучатели, ежемесячно платили. Но банк уведомил нас о расторжении договора и предупредил всех наших арендаторов, чтобы они не платили нам.
А если арендаторы нам не платят — нам нечем платить по лизингу. Включился механизм, по которому мы быстро теряли объект.
Нам пришлось применить все свои юридические компетенции, чтобы защитить активы и остановить действия банка. Мы получили обеспечительные меры в суде, запретив лизинговой компании прекращать поступление арендных платежей до решения дела по существу. Таким образом, мы ситуацию восстановили.
Полтора года мы были в тяжёлой борьбе с банком. Когда всё завершилось, мы с Пановым остались вдвоём — двое других партнёров участия не принимали. Один занялся девелопментом, строил дачный посёлок и ушёл в это направление раньше. Второй просто выгорел и уехал в Индию.
Мы с Пановым всё это тянули. Он любит рассказывать, как ехал в машине после разговора с партнёрами, позвонил мне и спросил: «Останешься ли ты со мной? Поддержишь ли на этом этапе?» Вот с того момента и началось наше настоящее партнёрство.
В итоге мы из этой долговой истории вышли нормально. Мы расплатились с банком, продали недвижимость. Купил её инвестор, конечно, с дисконтом, так как актив считался проблемным.
Мы с Кириллом тогда сидели и думали: «Как же круто мы прокачали свои долговые компетенции!» Кто на этом заработал? Инвестор.
Ни мы, ни банк не заработали ничего, кроме опыта. А инвестор — очень даже хорошо, благодаря дисконту. Мы стали думать, как на этом можно дальше зарабатывать.
Можно ли на этом построить какой-то следующий бизнес? В тот момент я была беременна вторым ребёнком и, соответственно, на какой-то период немного «отвалилась», то есть ушла в декрет. Кирилл уже сам завершал всю историю, дочищал всё, чтобы можно было полностью закрыть предыдущую компанию.
У него начался новый этап: он стал покупать залоговые долги в банках или на торгах и пытаться, как и в нашей ситуации, выкупать недвижимость с дисконтом. Он стал искать аналогичные кейсы. Если покупаешь такой актив, дальше его нужно юридически «очищать», чтобы он стал рыночным. Затем делишь его на обычные куски — в розницу выгоднее продавать, потому что крупный, неделимый объект стоит дешевле, а по частям можно выручить больше денег.
Кирилл реализовал несколько таких проектов. Потом у него был этап, когда его позвали поработать в найм. Он немного поработал, но быстро понял, что в найме ему невозможно функционировать: он начинал болеть, ему становилось плохо. В итоге он снова вернулся к идее, что нужно делать свою компанию — снова про долги, банкротства и всё подобное.
Мы хватались за всё подряд. Занимались банкротствами, делали инвентаризации в рамках банкротств — в общем, всё, что удавалось найти на рынке. И в какой-то момент на одном из обсуждений возникла идея. Кирилл периодически устраивал мозговые штурмы — что делать дальше, как двигаться. Мы анализировали, какие у нас есть ресурсы и компетенции.
Возникла мысль, что исполнительный лист к должнику, по которому можно спрогнозировать погашение долга, тоже может быть инвестпригодным активом. В отличие от недвижимости, где нужны сотни миллионов рублей, для покупки исполнительного листа может хватить пары миллионов — всё зависит от размера долга.
Допустим, долг — 3 миллиона рублей. Чтобы купить такой долг, достаточно пары миллионов. Эта идея нам понравилась, и мы решили её протестировать. У нас появилась маленькая команда: человек пять. Были люди, которые прозванивали кредиторов и предлагали выкупить долг, был аналитик, был юрист.
Мы купили первые четыре долга. Помню названия: Гупикс, Корпорация Трансстрой, Гипродорнии и Мосэлектрощит. Покупка шла с трудом — люди подозревали нас во всём, думали, что мы мошенники или работаем от имени должника. Никто не хотел давать дисконты, потому что, если мы хотим купить долг, значит, он точно «золотой».
С трудом мы отторговали дисконты — около 30% в каждом случае. Купили мы эти долги весной и летом 2015 года. Осенью они все дефолтнулись. Это было и страшно, и смешно одновременно, потому что я уверена — это был стопроцентный дефолт.
Мы оказались в неприятной ситуации. Нельзя было всё бросить, потому что вложены были не свои деньги, а средства нашего партнёра. Пришлось вытаскивать ситуацию — и делали мы это за счёт аналитики.
Мы начали искать признаки преднамеренного банкротства. Наша идея была в том, что, если мы аналитически оценили компанию как устойчивую, а она дефолтнулась, значит, что-то там не так. Возможно, кто-то сознательно «сыграл» на банкротство. В трёх из четырёх случаев мы действительно накопали признаки преднамеренных действий. Это позволило выстроить сильную переговорную позицию.
В итоге эти долги у нас выкупили — мы вышли из всех историй с плюсом. Но на момент, когда всё это происходило, результат был совсем неочевиден.
Могу сказать за себя: мне было очень страшно и крайне непонятно. Я была в состоянии полной неопределённости — когда ты продолжаешь что-то делать просто потому, что не можешь не делать. Но будет ли результат — ты не знаешь. То есть ты копаешь эту всю аналитику, но не знаешь — удастся тебе договориться или нет. Это сейчас, постфактум, кажется логичным: купили, дефолтнулись, проанализировали, продали. Да, выглядит так, будто всё шло по плану.
А тогда я помню, что периодически просто была в ужасе от той ситуации, в которой мы оказались. Денег нет, а команда есть, её нужно содержать, платить зарплаты. Будут ли деньги — неизвестно. Приведут ли твои усилия к результату — тоже непонятно.
Из-за этого, конечно, я периодически ныла. И считаю большой заслугой Кирилла то, что мы вообще прошли этот этап. Потому что психологически это было для меня очень тяжело.
Он мне говорил: «Мы всё делаем правильно. Надо продолжать. Это нормальная тема, надо продолжать» — и вот за счёт его уверенности нам удалось пройти этот период.
Я тоже это ощутила: раз мы смогли пройти через такую сложную историю с дефолтом, смогли вытащить деньги и подкорректировать аналитику на входе, чтобы больше не попадать в такие ситуации, и поняли, что делать, если дефолт всё-таки случается — это дало мне уверенность.
После этого я стала более уверенно говорить с инвесторами. У нас стало получаться привлекать людей в наши сделки. Мы находили какие-то проекты, предлагали их знакомым — и нас начали поддерживать.
Так собрался наш первый пул инвесторов — 20 человек. Сделок было немного: от 10 до 15 в год. Покупали и на торгах, и напрямую у кредиторов. Что-то получалось.
А потом, в 2019 году, мы поняли, что рынок очень большой. Картотека арбитражных дел огромна, дел в ней очень много, и стало понятно, что нужна автоматизация аналитики. Мы позвали моего одноклассника. Он гений, учился со мной в классе. Он приехал, посмотрел, я ему объяснила, что мы хотим сделать. Мы тогда анализ юрлица называли "форма 2" — у нас всё это было в Excel. И эта форма оказалась простой, типовой, повторяющейся.
Было очевидно: это работа не для человека, а для робота. Мы ему это объяснили, он сказал: «Да, это надо автоматизировать, но вообще тут нужно подключать искусственный интеллект — чтобы потом была магия». Он так красиво это завернул, и мы загорелись — мол, будет магия, будет ИИ. И пошли в эту историю.
Если бы мы знали, на что подписываемся, наверное, не пошли бы. Всё оказалось очень дорого. Мы тогда просто не понимали, во сколько это всё обойдётся. Но в итоге мы заключили с ним контракт и начали разработку.
Год мы с ними работали, но стало ясно — мы очень сильно буксуем. В этот момент Кирилл привёл Мишу Михайлова. Он айтишник, IT-директор, человек, который запускал айтишные продукты.
Он стал для нас третьим ключевым человеком. Мы с Пановым в IT не разбирались совсем. А он мог общаться с подрядчиками, кто нам делал разработку, и переводить наши идеи в технический язык.
В итоге он сказал: «Надо отцеплять подрядчиков. Надо делать свою команду».
Так у нас появился Андрей Горбунов, Саша Кугут (тестировщик), свой дата-сайентист — и стало реально лучше. Когда разработка на аутсорсе, особенно если у тебя внутри нет технической компетенции, — это очень тяжело. То есть тебе, во-первых, сложно понять, что тебе говорят, а во-вторых, тебе могут говорить всякую лажу, и ты не отследишь, что что-то не так.
И Миша в этом плане нас очень усилил и довёл историю до ума. Он завернул всё это в Rescore — тот самый Rescore, который у нас есть сейчас в виде продукта. Плюс он провёл нас через длинный-длинный путь переговоров с РБК, и в итоге РБК зашли к нам в качестве акционеров. Они дали нам возможность публиковаться на РБК в определённом объёме в обмен на долю в нашей компании — именно в части скоринга.
Они верили, что скоринг станет супервостребованным бизнесом, что там будет куча клиентов, рекуррентная выручка и всё такое. Мы тоже в эту игру какое-то время играли, думали, что у нас всё получится со скорингом.
В 2020 году мы пошли учиться в Сколково. У нас на тот момент было 20 инвесторов и примерно 15 сделок в год. И как раз случилась пандемия — всё опять стало неопределённым, непонятным. Был введён мораторий на взыскание. Я помню, Панов тогда сказал: «Пойдём учиться в Сколково». Я ответила: «Ты с ума сошёл? Тут же такая ситуация!» А он: «Да ладно, всё равно всё плохо — давай поучимся». И мы пошли. Реально поучились — и это оказалось очень правильным решением. Я бы сама не пошла, сама бы такого не придумала. Вот он иногда действует парадоксально.
В итоге мы вышли оттуда с чётким пониманием, что у нас платформенная бизнес-модель, и что у нас две аудитории клиентов: бизнес и инвесторы. Для инвесторов надо было упаковать наш продукт и выйти с ним в рынок.
Именно в конце 2020 года мы начали понимать: пришло время рассказывать миру и рынку, что у нас есть такой инвестиционный продукт. Мы начали публично показывать свой трек-рекорд, статистику, доходность и прочее, чтобы привлекать новых инвесторов.
Тогда Ира вышла на арену в новом амплуа — как человек, отвечающий за упаковку продукта и привлечение инвесторов, хотя раньше она думала, что она просто финансист.
У нас всё начало развиваться довольно резко. Понятно, что не сразу — мы пробовали одно, пробовали другое, многое не получалось.
Панов говорил, что нужно делать коллаборации с блогерами. И в итоге мы сделали коллаборацию с Кирой Юхтенко на InvestFuture — и у нас резко набежала куча инвесторов.
То есть, это вдруг полетело: у нас было 20 инвесторов, а стало 200. И тут началась перегрузка: «задымилась» бухгалтерия, «задымились» процессы, связанные с документооборотом, с инвесторами.
А в 2022 году мы запустили разработку современного, текущего личного кабинета, который должен был полностью автоматизировать процесс работы с инвесторами — чтобы можно было экономить на людях и при этом качественно обслуживать весь процесс.
Так в итоге, как бы вы ответили на вопрос: кто основал компанию, а кто подхватил идею?
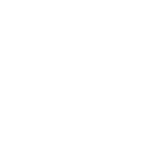
Это было логическим продолжением предыдущей команды и предыдущей компании — в виде нас двоих. Мы просто перетекли из одного бизнеса в другой: раньше занимались корпоративными конфликтами, а потом — долговыми. И не было такого, что Кирилл основал компанию, а я присоединилась. Нет. Или наоборот — тоже нет.
У нас вообще «Содружество» — это компания, которая осталась от старых наших юридических лиц. Она просто была одной из тех, что числились за нами. Мы выбрали её, потому что она была более-менее «чистая» с юридической точки зрения.
Мы даже не думали тогда ни о нейминге, ни о бренде. Просто взяли первое подходящее юрлицо и решили, что будем действовать от его имени. Так и осталась компания под названием «Содружество».
Позже у неё появился логотип, фирменный стиль — мы просто заказали это всё уже под готовое название, которое и так существовало. На тот момент это была просто пустая компания с названием «Содружество».
А как между вами распределялись роли? Вы говорите, что был мозговой штурм, вы учились вместе в Сколково. А вот как вы между собой делили роли — кто чем занимался?
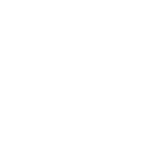
В большей степени Кирилл разбирается в аналитике и в том, как выстроить процесс воспроизводства — чтобы сделки повторялись, чтобы они появлялись заново. А я больше про то, «взыщем или не взыщем», и как взыщем. То есть моя зона — это в большей степени юридическая составляющая, юридическая команда. Я отвечала за версии, гипотезы, как отрабатывать ту или иную ситуацию. Этими вещами занималась в основном я.
Но всё равно у нас были пересекающиеся функции. Инвесторов мы оба привлекали — он обходил своих знакомых, я — своих. Первые инвесторы были частично от него, частично от меня.
Какие-то гипотезы и идеи, например, по поводу автоматизации скоринга — я уже точно не помню, но это, скорее всего, придумал Кирилл. Он вообще всегда был таким «двигателем прогресса». У него всегда было некое масштабное представление.
Я — в большей степени про «здесь и сейчас»: вот есть что-то под руками — я с этим пытаюсь разобраться. А он видит шире: что рынок большой, что мы должны сделать на этом рынке что-то значительное. У него всегда был как будто встроен масштаб.
Поэтому все эти идеи — скоринг, автоматизация, Сколково — это всё выросло именно из его стремления к масштабу.
А что самое сложное было в начале, что бы вы выделили?
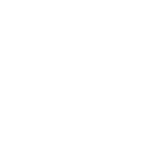
У нас не получалось на всех этапах. Например, не получалось на этапе покупки. Не было такого, что все сразу готовы были продавать. Наоборот — приходилось очень долго кого-то уговаривать, выискивать тех, кто в принципе был готов с нами разговаривать про продажу долгов. Было достаточно сложно.
Не получалось купить столько, сколько хотелось. Не получалось легко привлекать деньги. Не получалось — с точки зрения взыскания — выстроить какой-то предсказуемый денежный поток. Поток был рваный, непредсказуемый. Сделок было мало.
Мы жили на какие-то заёмные деньги, в ожидании того, что придут средства с какого-нибудь проекта, со взыскания. А если не придут? А проектов всего десять штук… Был очень длинный период вот этой неопределённости, и всё это напоминало какой-то недоразвитый стартап, в котором непонятно — он вообще получился или нет.
И вот только, наверное, после того как мы сходили в Сколково и конвертировали это всё в более системную работу с инвестиционным продуктом, у нас пошёл рост. У нас стало гораздо больше сделок, вырос портфель, прибавилось инвесторов.
Мы перестали, как команда, делать каждую отдельную сделку вручную. Мы стали выстраивать процессы, и всё стало работать как бизнес. А до этого у нас была, скорее, проектная команда: мы делали единичные проекты, с трудом их находили, с трудом покупали, с трудом взыскивали.
Ну и, наверное, самое сложное лично для меня — это именно неопределённость. Действия в условиях неопределённости и рваного денежного потока.
А как вы нашли первого инвестора?
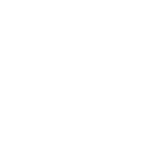
Он появился из какого-то предыдущего опыта Кирилла по покупке домиков с дисконтом — долгов, обеспеченных залогом. В процессе работы с этими долгами он познакомился с Егором. Потом позвал его: сказал, что у нас есть такая идея, давай делать. Егор подключился, и мы реально начали всё это фигачить.
Но потом, когда Егор столкнулся со 100% дефолтом, ему всё это очень не понравилось. И когда мы уже деньги из этих проектов вынули, он больше в проектах не участвовал. И вообще, в принципе, ни в чём больше не участвовал. Мы потом просто выкупили его долю.
А какая была первая команда, и как она собиралась?
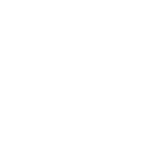
У Лены была небольшая команда. У неё был Саша Филиппов — наш бухгалтер, была Ира Малько — юрист. Фактически, эти люди и стали нашей первой командой в «Содружестве»: Ира Малько, Саша — бухгалтер. Мы ещё наняли Диму, по-моему, Болотского — он был нашим аналитиком.
В таком мини-составе мы и начинали. Потом у нас появилась ещё пара человек — уже когда аналитики стало требоваться больше. Тогда же к нам пришёл и Миша Кирсанов.
Среди юристов у Иры был парень, который сильно помог нам в самом начале — по-моему, сначала он один активно участвовал в том, чтобы вынуть деньги из дефолтных кейсов. Его звали Фарух. У него очень крутой аналитический склад ума, и он классно делал юридическую аналитику по этим мутным историям, в которые мы изначально влезли.
Ира Малько вообще пришла из земельных проектов, но она талантливый юрист. Саша Филиппов — бухгалтер. А дальше мы уже начали добирать людей конкретно под работу с долгами — ещё несколько человек.
Вот так у нас сложилась первая команда — где-то 5–7 человек.
А когда появились первые конкуренты? И кто это был?
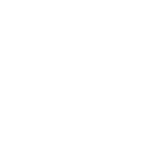
А до этого мы просто с его сайта срисовывали то, что делали себе. То есть мы видели, что он делает с точки зрения сайта, как он про это рассказывает, и мы это повторяли. Мы фактически повторяли его контекст, его коммуникацию — в своём фирменном стиле, конечно, — но многое брали именно от него.
Когда мы после Сколково вышли в публичное поле, он, видимо, тогда про нас и узнал и решил с нами познакомиться. Он к нам приехал — и на тот момент у него был портфель типа на 50 миллионов, а у нас уже на 500. То есть на момент, когда мы с ним познакомились, мы уже были в десять раз больше него.
Он просто не привлекал деньги — он играл на свои. Выкупал долги на свои деньги и вот так работал. У него была небольшая юридическая компания, у него тоже была хорошая аналитика, он хорошо во всём этом разбирался, но его никуда не несло — ни в какой масштаб.
В итоге он просто зашёл к нам как инвестор — как инвестор в толпе.
Вот вы рассказали, что «Содружество» — это просто уже была, грубо говоря, чистая компания, поэтому вы решили с ней остаться. А как потом перешли к «Кономике»?
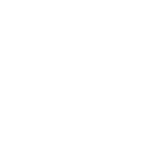
Стало очевидно: если мы хотим всё делать осознанно, нам нужен бренд, чтобы работать над узнаваемостью реального, уникального бренда, а не просто какого-то общего слова. Потому что «Содружество» — это что-то очень часто встречающееся. Есть страховая компания «Содружество», есть банк «Содружество» — этих «Содружеств» миллион. Там невозможно не запутаться. Это как фамилия Васина — повторяется тысячу раз. Уникальности нет.
Нужно было пройти процесс создания бренда. Но у нас ни у кого не было нормальной компетенции в этом. И тут просто повезло: так случилось, что моя знакомая — Даша Гуськова — с которой мы когда-то работали вместе на пятом курсе, когда я была начальником юр. отдела, оказалась свободной. Она была в декрете, жила в Москве и не работала. Я увидела в Инстаграме, что она пишет про брендинг, и обратилась к ней.
Я рассказала: вот, у нас такая ситуация, мы хотим создать бренд. И она провела нас через весь процесс. Мы, можно сказать, взяли супертоп-специалиста мирового уровня: она работала в Interbrand — в Сингапуре, Германии, России — с крупнейшими брендами. А тут вдруг оказалась доступной для нас.
Она очень технично провела нас через процесс создания образа. Мы собирали обратную связь от команды, от клиентов — как они нас воспринимают — и сравнивали с тем, как хотим, чтобы нас воспринимали.
Была специальная стратегическая сессия, на которой Даша предложила четыре образа. Один — более диджитальный, типа искусственный интеллект, робот и т. д. (кстати, сейчас у нас этот робот иногда проскальзывает в визуале). Другой — образ с человеческим лицом, вроде «Чип и Дейл спешат на помощь», такой дружелюбный и человечный.
Ещё два образа я уже не помню. Но помню, что два мы сразу отмели. Остались робот и человек. Мы выбрали образ с человеческим лицом. Клиенты давали обратную связь, что они нас ценят за открытость, за возможность общения, за то, что мы остаёмся «живыми» в мире автоматизации и роботов. Это нас отличало, и мы хотели это сохранить.
Получился этап выбора «вайба» — ощущений, смыслов, ценностей. А был ещё отдельный этап нейминга. Даша привлекла какое-то иностранное агентство — немцев. У нас была сессия, где они тоже спрашивали про смыслы, изучали наработки Даши и предлагали варианты названий.
Но из того, что они предложили, мы ничего не выбрали. С командой сидели, голосовали — не зашло. Тогда Даша сказала: «А давайте вы сами тоже подумаете и накидаете варианты». Каждый, кто участвовал в процессе, должен был предложить свои.
И вот «Кономику» придумала я как один из вариантов.
Даша нам в качестве референса давала такой бренд — Acorn. У них жёлудь является символом. Это инвестиционная компания в Америке, которая помогает людям научиться инвестировать буквально с трёх центов. То есть ты можешь внести любую сумму, хоть минимальную, и они помогают постепенно наращивать капитал. Они учат людей выходить из так называемых "крысиных бегов".
Если ты знаешь игру Cashflow, то там есть круг «крысиных бегов», и основная задача — выйти из него. Acorn, как я тогда поняла, обучает самых обычных людей, у которых никогда не было инвестиций, что начать инвестировать можно с любой суммы — хоть с одного доллара. У них символ — жёлудь, и мне это очень понравилось. Понравилось и Дуванову, и ещё кому-то в команде.
Когда мы думали о собственном бренде, я размышляла о том, что долги провязывают всю бизнес-среду. Все кому-то должны, все кому-то кредиторы, и каждый может стать инвестором. Все переплетены этими нитями и ролями. Это настоящая экономика, построенная на взаимных обязательствах. Хотелось слово, которое масштабно охватывает этот смысл. Что-то вроде «бизнесового интернета» — системы связей через долги.
И вот, просто взяли слово "экономика", оторвали первую букву — получилась "Кономика". Звучит неплохо. А ещё слово cone (шишка) на английском — как бы тоже символичный объект, похожий по смыслу на жёлудь. Подумали, что раз жёлудь классный, то и шишка — тоже хороший, узнаваемый и осязаемый символ.
Дуванов тогда говорил: «Ну уже надоели все эти абстрактные картинки, искусственный интеллект, безликие символы. Хочется чего-то простого и понятного, до боли знакомого». И мы действительно выбрали шишку как символ.
Шишка — это ещё и семена, символ роста. Причём семян в одной шишке много — это можно интерпретировать как совместный рост, коллективное развитие. Мы начали подтягивать этот образ к нашим ценностям. Так и сформировался новый, конкретный бренд.
У нас была большая презентация про то, почему выбрали именно такое название, что оно значит, как мы себя теперь осознаём, какие смыслы хотим нести.
Даша тогда говорила важную вещь:
Бренд — это не то, что ты говоришь, а то, что про тебя говорят, когда ты выходишь из комнаты
«Бренд — это не то, что ты говоришь, а то, что про тебя говорят, когда ты выходишь из комнаты».
Она показывала примеры хороших брендов, например, приводила в пример «Точку». Демонстрировала, как у них выстроена корпоративная культура, как они пропитывают ценностями весь коллектив — до самых базовых сотрудников.
Потому что бренд несут люди. Они общаются определённым образом, пишут определённым тоном, доносят ценности бренда буквально в каждом своём действии — в любой коммуникации с внешним миром.
И внутри компании тоже эти ценности должны жить. Их нужно поддерживать традициями, процессами, передавать новым людям. Это должно быть живое, реальное, а не только на бумаге.
Наверное, это было три года назад — в 2022 году. Тогда мы и провели ребрендинг.
А с какими трудностями и кризисами вы столкнулись?
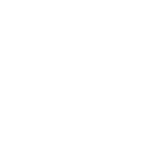
Первый — это пандемия. Мораторий был. Это просто был ужас ужасный, потому что мораторий — это равносильно тому, что ты остался без выручки. У тебя есть долги, которые дошли до исполнительного листа, и ты можешь подать на банкротство — это твоя ближайшая выручка. А по ним тебе говорят: «нельзя взыскивать», «нельзя подавать на банкротство».
А что тогда можно? Только договариваться. Когда объявили сначала один мораторий, потом второй… Я испытала глубочайший стресс. Думала: всё, короче, непонятно, как мы из этой ситуации выплывем. Сидеть год без выручки — нереально.
И выплыли — через договорённости. Мы договаривались с должниками, что-то им уступали, чтобы они нам платили. И в основном, наверное, процентов 70 должников действительно платили. Остальные — это были госкомпании или очень крупные компании, которые нас даже как комаров особо не замечали на своём радаре. Им было всё равно, с ними невозможно было договориться, они просто ждали конца моратория.
Но в целом вышли "сухими из воды", условно. За счёт чего?
Во-первых, сфокусировались. Когда началась пандемия, у нас ещё было факторинговое направление. Мы его отцепили и сказали: всё, закрываем, занимаемся только цессией.
Во-вторых, приложили усилие договориться с должниками на условиях win-win: чтобы им было выгодно — и нам тоже. Это получилось, и выручка у нас сохранилась.
Второй кризис — это СВО. Опять был мораторий, но он уже был частичный и не так сильно по нам ударил. Хотя дефолты пошли — специфические. Особенно выбил нас проект JustM — он нас чуть не убил.
Там мы зарубились с банком ТРАСТ. Купили долг, по-моему, за 40 миллионов, взыскали сначала 140 или 170, потом — в сумме около 400 миллионов. И Банк ТРАСТ не мог нам этого простить. Они начали мочить нас по всем фронтам: в суде отменили решение, потребовали обратно все взысканные деньги.
Разворот исполнения на 400 миллионов — это очень страшно. Потому что этих денег просто нет. Инвесторы свои деньги уже забрали, а вернуть всё нужно было — формально — компании. Даже не компании, а, кажется, Панову, на которого был оформлен долг и через которого гасился.
Это был локальный, но очень опасный проектный кризис. Но, в принципе, мы его достаточно хорошо прошли. Всё закончилось нормально, разошлись так, что никто никому уже ничего не был должен.
И нам в этом тоже помогла СВО: резко вырос курс доллара — до 120 рублей. В «ТРАСТе» поменялась команда, проект передали каким-то внешним ребятам. Они увидели, что там нечего зарабатывать, и быстро решили от него отказаться и всё закрыть.
Мы аккуратно всё подводили к завершению, чтобы не осталось хвостов: ни уголовных дел, ни долгов. В итоге проект закрыли «вчистую», и это было хорошо.
Но два года мы, конечно, жили под дамокловым мечом со стороны Банка ТРАСТ.
А вот какой совет самому себе вы бы дали в начале пути?
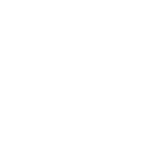
Но с другой стороны — на самом деле это выбор. Выбор идти и делать что-то, чего раньше не было, и пытаться. Если ты не попытаешься — тебе даже рефлексировать будет не о чём, на самом деле.
Я просто в тот момент, когда делала выбор, сидела и решала: мне в найм идти и там деньги зарабатывать или я хочу вот так — по-другому? В итоге я пришла к выводу, что в найм я точно не хочу. Я себе тогда так и отвечала на вопрос.
Если исходить из того, что выбор всё равно был один — я пойду в бизнес — то я бы себе дала совет: не сдаваться. Просто не сдаваться и не впадать в панику, чаще просить о помощи, лучше смотреть по сторонам, больше коммуницировать.
Потому что куча возможностей находится прямо рядом с тобой, ты просто в режиме паники и ужаса их не видишь. А в нормальном, спокойном, рабочем режиме ты можешь общаться с людьми, быть им интересен — и находить вовне много разных возможностей.
Вот, например, Дуванов — это же очень крутой айтишник. Он работал на Мосбирже, спокойно себе сидел, чего-то там боялся. И мы бы никогда в жизни такого айтишника себе не "прилепили", если бы он сам не заинтересовался и не сделал нам личный кабинет инвесторов. А это реально круто.
Или, например, Мусаков — он суперэксперт по платформам. Как мы его вообще себе затянули? Каким таким боком?
Это человек, которого мы бы никогда не нашли просто за деньги. Купить его "в лоб" было бы нереально. Но за счёт того, что он чем-то вдохновился, он вовлёкся.
У меня была такая история: я тогда увидела платформу Mintos, латвийскую. Она мне очень понравилась. Мне показалось, что это прообраз того, что я хочу. Я прям ходила и всем рассказывала: «Вау, Mintos очень круто! Давайте сделаем свой Mintos!»
У нас тогда работал один парень, который сказал: «Я знаю, кто делал Mintos. Хотите — познакомлю?»
Он меня познакомил с Мусаковым. Я с ним час поразговаривала, рассказала, как мне понравился Mintos, и Мусаков после этого стал с нами достаточно плотно взаимодействовать — и до сих пор взаимодействует.
Он действительно очень крутой эксперт по платформам. Если бы не он, мы бы, наверное, гораздо дороже, дольше и сложнее делали всё, что сделали. И личный кабинет инвестора, и крауд-платформу.
Потому что мы бы просто не знали, как это делать, шли бы методом проб и ошибок. Нам бы кто-то вешал лапшу на уши, подрядчики водили бы кругами — было бы тяжело.
А благодаря Мусакову мы прошли этот путь очень хорошо.
А расскажите про какой-нибудь самый трудный кейс, и как вы его решили?
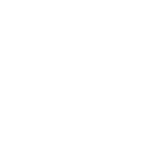
У нас была такая стратегия: когда Траст начал на нас «разворачиваться», Кириллу, как человеку, особенно важно в кризисной ситуации иметь план. Если плана нет — начинается стресс. А если план есть — стресса уже меньше: нужно просто действовать по нему.
Мы тогда провели несколько мозговых штурмов — что можно сделать? И родилась мега-мысль: а что, если напасть в ответ? Они нападают на нас, а мы в ответ — на них. То есть не занимать пассивную позицию: «они за нами бегают, а мы убегаем», а наоборот — мы на них нападаем.
Так и сделали. Мы реально пошли в атаку и подали встречные иски — на взыскание с них ещё 280 миллионов. И в первой, и во второй инстанции мы эти суды выиграли.
Когда наступил момент X — взлетел доллар до 120 рублей, в Трасте сменилась команда, и проект отдали новым людям. Они посмотрели на картину: у них к нам претензия почти на 300 миллионов, у нас к ним — на примерно ту же сумму.
Они оценили риски и решили, что лучше с нами замириться. В итоге всё схлопнулось в ноль — мы им ничего не должны, и они нам ничего не должны. И мы спокойно разошлись.
Знали ли мы, что так будет? Нет. Когда мы придумали встречную атаку, мы просто увидели возможность и решили её реализовать. Реально вложились, дошли до суда и апелляции.
А потом, когда они нам сами предложили договориться, у нас был выбор: можно было бы сказать — «Вы козлы, платите нам 280 миллионов, у нас есть исполнительный лист». Мы могли бы пойти до конца.
Но мы понимали, что Траст просто так эти деньги не отдаст, они будут костьми ложиться, чтобы не платить. Это была бы опасная игра с огнём.
Я до сих пор помню этот момент: я выезжала с парковки и вдруг чётко подумала —«Вот она, возможность закончить всё без потерь. Её надо использовать. Не бычить. Не пытаться урвать всё, что можно, потому что это потом может больно аукнуться».
Я обсудила своё видение с Кириллом, он согласился, и мы сделку с Трастом заключили.
В этом проекте было много развилок, решений — правильных и неправильных, и все они были по-своему опасны.
Но мы прошли через это вместе, благодаря подходу Кирилла:
«Нужен план. Нужно действовать по плану. Неважно, что будет — делай, что должно, и будь, что будет».
Ты не всегда знаешь, чем всё закончится, срастётся или не срастётся. Но если ты понимаешь, что действие адекватное — его нужно делать. И именно за счёт этого подхода мы смогли вырулить.
А что вы считаете своим главным достижением?
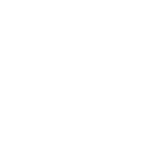
В целом, если сейчас мы сможем завершить формирование компании как прибыльной и устойчивой, то это будет просто прекрасно. Я буду считать своим достижением весь этот путь, который я прошла.
Да, я ныла периодически, пугалась, впадала в панику. Но шаг за шагом этот путь был пройден, и он привёл к хорошему результату.
Когда мы вспоминали, в какой точке находились семь лет назад, и сравнивали с тем, где находимся сейчас, — разница колоссальная. Ты думаешь: «Блин, а мог бы я тогда представить, где окажусь?» — да вообще не мог. Это были шаг за шагом открывающиеся двери, горизонты, которые тогда просто невозможно было даже увидеть.
Поэтому, наверное, сам путь — и есть моё главное достижение. Что мы его в целом прошли, что мы так высоко забрались — и это даже меня саму удивляет.
У нас достаточно большой объём работы и результатов: Мы взыскали 6 миллиардов, выплатили бизнесу больше 5 миллиардов. Стартаперская банда из пяти человек стала действительно большой компанией и лидером рынка.
Да, у нас сейчас сложное положение, но оно не фатальное. Мы можем его преодолеть и конвертировать в новый виток нашего движения и развития.
А вот как бы вы сформулировали, какие вызовы стоят перед компанией сейчас? Какая наша основная цель сейчас?
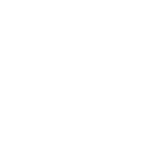
Первая — раскачать инвестиции, потому что мы стали гораздо больше подписывать. Мы всегда мечтали о таком процессе подписания, как сейчас: чтобы сделки подписывались каждую неделю, чтобы было много дисконта на столе, чтобы был выбор. Эта ситуация уже случилась, и теперь нужно, чтобы инвестиции стали способными удовлетворить весь этот спрос.
Но сделать это старыми методами уже не получится. Помимо работы с аудиторией частных инвесторов, мы должны выстроить продукт для институциональных инвесторов, чтобы привлекать реально большие деньги в наши сделки.
Это — первый вызов, и он очень понятный. Нужно работать с площадками, фондами, управляющими компаниями — с юридическими лицами, а не только с физиками. Работа с физиками — это одна тема, а с институционалами — совершенно другая. Это прям важная штука, которую нужно решать уже сейчас.
Вторая задача — разрешение нашей долговой ситуации, включение дополнительных участников в капитал и формирование финансового инжиниринга.
У нас никогда не было финансового инжиниринга, а эта компетенция сейчас критически необходима — для того, чтобы зарабатывать на нашем же продукте дополнительную маржу за счёт инвестиционного дохода.
Мы посчитали: если компания будет иметь собственный капитал, инвестировать его в портфель долгов и, вместе с другими инвесторами, покупать доли в долгах, формируя ровный портфель, то это даст почти X2 к выручке и создаст совсем другую финансовую устойчивость.
Кроме того, это изменит восприятие нас как юридического лица: и со стороны банков, и со стороны площадок, и для выпуска облигаций — ты становишься более адекватным субъектом, с которым можно работать.
Вот эти две вещи:
1. Привлечение институциональных инвестиций;
2. Финансовый инжиниринг и укрепление капитала — сейчас являются ключевыми вызовами для компании.
